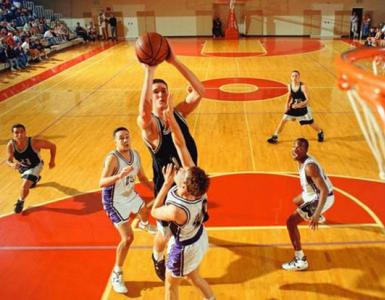Терроризм с точки зрения психологии. Психологические основы терроризма и антитеррористической деятельности. Выводы по I главе
Терроризм стал явлением современной жизни, которое знакомо всем. Когда мы слышим слово «теракт», мы начинаем испытывать тревогу, страх, многих охватывает паника, начинают «бегать мурашки» по телу, мы беспокоимся за себя и за близких людей. Все мы знаем, что это ужасное событие, с которым связана кровь, страдания, смерть. Террор (лат. terror – страх, ужас) направлен на «устрашение», «запугивание» (И.Г.Малкина-Пых, 2009). Теракт, произошедший в аэропорту «Домодедово», теракт на «Невском экспрессе»… К сожалению, перечень можно продолжать долго. Эти события наглядно показывают, что за всеми несчастьями стоит смерть и множество искалеченных судеб. Эффект «заражения» массовой паникой заставляет зрителей телеэкранов плакать, сострадать жертвам теракта, находится в печали, горевать. Траур, в котором находится вся страна, задевает за душу многих людей, которые, казалось бы, не имеют к теракту никакого отношения.
Что же пугает нас в теракте и кто такой террорист? Это непростой вопрос, который у многих людей ассоциируется с невыносимой душевной болью, потерей близких. Факт жестокого разрушения, внезапность трагедии и многочисленные жертвы заставляют задуматься: «заходить ли сегодня в метро?», «полететь ли очередным рейсом на самолёте?», «стоит ли ехать в командировку в Москву?» и т.д. Терроризм несёт в себе угрозу существованию. Тот, кто производит теракт, как выразился Д.А.Медведев, это «подонок». Что же должно твориться в психической реальности человека, который готовится к совершению теракта?
Психологический портрет террориста составляли многие учёные, психологи, психиатры. Большая часть сравнительных исследований не обнаружила никакой явной психической ненормальности террористов. Тем не менее, продолжаются попытки выявить специфическую личностную предрасположенность у людей, становящихся на путь терроризма. Среди членов террористических групп наблюдается значительная озлобленность паранойяльных индивидов. Общая черта многих террористов - поиск вовне источников личных проблем. Имеет место сверхсосредоточенность на защите Я путём проекции. Другие характерные черты – постоянная оборонительная готовность, чрезмерная поглощенность собой и незначительное внимание к чувствам других. Была обнаружена психодинамика, подобная той, которая наблюдается при пограничных нарциссических расстройствах (Поуст, 1993).
Проявления нарциссизма в форме самолюбования, утверждений об исключительности и особых правах своей национальной, религиозной или классовой группы и её представителей, о собственных выдающихся способностях и др. можно обнаружить у большинства террористических объединений, например, чеченских и ирландских. Хотя нарциссизм в аспекте терроризма еще не исследовался, Э.Фромм специально анализирует это явление как одну из причин человеческой деструктивности, составной частью которой является терроризм (Антонян, 1998).
Личность террориста характеризуется сочетанием истерических и эксплозивных черт, высоким уровнем нейротизма, фрустрированностью, приводящей к прорыву барьера социальной адаптации, выраженной асоциальностью. У большинства террористов обнаруживаются расстройства личности с высоким уровнем косвенной агрессии. При этом механизм реализации террористического акта, как правило, включает в себя аффектогенную мотивацию, психопатическую самоактуализацию. Главная цель террориста – демонстрация собственной силы, а не нанесение реального ущерба. Террорист не стремится к безымянности, он всегда охотно берет на себя ответственность за свои действия (И.Г. Малкина-Мых, 2009).
В детском и подростковом возрасте террористы обнаруживают высокий уровень притязаний, завышенную самооценку, отличаются склонностью к фантазированию, занимают выраженную обвиняющую позицию, требуют к себе повышенного внимания педагогов. Психопатологический компонент личности террориста чаще всего связан с ощущением реального или мнимого ущерба, понесенного террористом, дефицита чего-то необходимого, настоятельно потребного для личности. Как правило, логика и мышление террористов носят путаный и противоречивый характер. С эмоциями связаны морально-нравственные проблемы («комплекс греховности»), иногда мучительные для террористов, несмотря на достаточно высокий уровень образования и интеллектуального развития. Террорист выступает, как бездушная «деструктивная машина» (И.Г. Малкина-Мых, 2009).
Психологический анализ позволяет выделить три наиболее ярких варианта такой «террористической машины». «Синдром зомби» - состояние постоянной боеготовности, своего рода «синдром бойца», нуждающегося в непрерывном самоутверждении и подтверждении своей состоятельности. Он присущ террористам-исполнителям, боевикам низшего уровня. «Миссионерство» - основной психологический стержень «синдрома Рембо». К основным психологическим характеристикам «синдрома камикадзе», прежде всего, относится экстремальная готовность к самопожертвованию в виде жертвы самой своей жизнью. Преодоления страха смерти вполне возможно за счёт изменения отношения к жизни. Стоит перестать рассматривать жизнь как некую свою собственность, как страх смерти проходит (Ольшанский,2002).
Психологические типы террористов в определенной степени (хотя и не абсолютно) соответствуют четырём типам темперамента (И.Г. Малкина-Мых, 2009). Дифференциальный анализ (Ольшанский, 2002) показал, что среди участников террористических организаций и террористических действий 46% холериков, 32 % сангвиников, 12% меланхоликов и 10% флегматиков. Таким образом, можно констатировать, что личность террориста многогранна. Воспитание террористов начинается с самого детства, присутствует идеологический компонент, ритуализация, строгость и ограниченность.
Для мирных жителей теракт - это всегда психотравма. М.М. Решетников, ссылаясь на работы Фрейда, отмечает специфичность того, что травма не всегда проявляется в чистом виде, как болезненное воспоминание или переживание. «Она становится (Фрейд об этом пишет в примечании) как бы «возбудителем болезни» и вызывает симптом (например, тики, заикание, обсессии и т. д.), «который затем, обретя самостоятельность, остается неизменным» . Далее Фрейд проводит аналогию между травмой психической и физической: «Психическая травма или воспоминание о ней действует подобно чужеродному телу, которое после проникновения вовнутрь еще долго остается действующим фактором» (М.Решетников, 2006).
В этом же разделе, обращаясь к своим наблюдениям 1881 года, Фрейд отмечает, что эти симптомы проходили, когда удавалось со всей ясностью воскресить в памяти травматическое событие. Фрейд указывает также на автономные механизмы и специфику психодинамики психической травмы: с одной стороны, кажется удивительным то, что даже очень давние переживания могут оказывать столь ощутимое воздействие; а с другой - что воспоминания о них, в отличие от других (не имеющих травматического содержания), с годами не становятся менее значимыми или менее болезненными (М.Решетников, 2006).
Фрейд отмечает, что снижение остроты переживаний существенно зависит от того, последовала ли сразу после травматического воздействия энергичная реакция на него или же для такой реакции не было возможности или она была вынужденно подавлена. В обоих случаях реакция на травму имеет чрезвычайно широкий диапазон отреагирования: от немедленного до отставленного на многие годы и даже десятилетия, от обычного плача по утрате до жестокого акта мести обидчику. И только когда человек отреагировал на событие в достаточной для него (и - что не менее существенно - индивидуальной для каждого) мере, аффект постепенно убывает. Фрейд характеризует это выражениями «выплеснуть чувства» или «выплакаться» и подчеркивает, что «оскорбление, на которое удалось ответить, хотя бы на словах, припоминается иначе, чем то, которое пришлось стерпеть» (М.Решетников, 2006).
Таким образом, теракт как психотравма становится для многих реалией жизни, связанной с глубокими психическими переживаниями. Каждый реагирует на трагические события по-разному, но если человек обращается психологу, то специалист обязан выслушать, понять, принять. Куликов И.А. на семинаре «Влияние личности психотерапевта на терапевтический процесс», который проходил в Нижнем Новгороде, отметил, что жертвы трагедии и их родственники в буквальном смысле «нападали на психологов», говоря, что их там не было, и психологи никогда не смогут понять то, что пережили они. Этот факт ещё раз подчёркивает, что терроризм - разрушительная сила, как в физическом аспекте, так и в психологическом, сила с которой нужно бороться, применяя комплексные меры по предотвращению трагедии.
В настоящее время существует большой социальный заказ на психологические методы профилактики терроризма. Приведём лишь три основных направления этой работы:
1. Методы психологического тестирования и выявления лиц, склонных (в т.ч. легко манипулируемых) к террористическим актам.2. Профилактика терроризма среди подрастающего поколения, ведущаяся на основе воспитания защиты против зомбирования и манипулирования (в т.ч. духовного).3. Обучение бдительности и наблюдательности к возможным террористическим актам.
Таким образом, для того, чтобы успешно вести профилактическую антитеррористическую деятельность, мы должны знать типологию потенциальных террористов-самоубийц: шахидов, камикадзе др.
На наш взгляд, существует следующая типология потенциальных террористов-смертников.
1. Террористы-экзистенциалы. Необходимо признать, что в основе психотехнологии производства самоубийц лежит не только искусство манипулирования психопатологическим сознанием потенциального террориста-смертника, но и феномен экзистенции , присущий всем людям - скрытой способности людей жертвовать своей жизнью ради Великой Цели или Ценности (детей, отечества, Бога, Святого и т.п.) и на этой основе ощущать свою уникальную сущность и ценность. Это разновидность духовной формы проявления инстинкта желания собственной смерти. Ради ощущения этой экзистенции многие искусственным образом подвергают себя различным рискам: играют в русскую рулетку, идут на войну, занимаются экстримом и т.п. Именно преодоление этого высшего барьера является источником специфической эйфории, называемой ощущением экзистенции. Человек всегда душой открыт к тому, чтобы почувствовать свою экзистенцию, ощущение которой, согласно экзистенциальной философии, возможно только в пограничной ситуации между жизнью и смертью. Именно экзистенциалы, на наш взгляд, пилотировали самолеты 11 сентября 2001. Здесь не было никакого зомбирования, никакой психопатологии, это были нормальные с психической точки зрения люди, в силу того, что они творчески и умно провели этот террористический акт.
Неосознаваемое (замаскированное) любопытство к собственной смерти есть у всех. Только в состоянии экзистенции возможно истинное ощущение жизни и себя. Впрочем, именно эту способность организаторы терроризма и используют в своих психотехнологиях духовного и псевдорелигиозного манипулирования.
Экзистенциалы самые непредсказуемые с точки зрения выявления личности. Порой трудно даже предположить, что кто-то из них может быть способным на теракт. В частности, теракт может быть протестом против глобализации и социального зомбирования долларом всего и вся, которое убивает чувство экзистенции.
2. Террористы-психопаты. Если террористы-экзистенциалы действуют на основании высшей формы инстинкта собственной смерти, то этот тип, основывается на низшем уровне инстинкта собственной смерти. Он проявляется в виде садомазохизма, психопатологической агрессии, маниакального синдрома и мании величия (прославиться на весь мир по телевизору, стать Святым, Избранным и т.п.) Именно они чаще всего стреляют во всяких «кеннеди и леннонов». Такой тип требует наименьшей обработки и манипуляции. Им достаточно указать на мишень воздействия и обосновать ценности, которые смертник «получит» после своей смерти.
3. Террористы-суицидники. Они страдают сильными депрессиями, благодаря которым у них отсутствуют ценности и смысл жизни (позитивные переживания и т.п), которые привязывали бы их к жизни. Этот тип желает избавиться от этих страданий, выключив собственную жизнь. Организаторы терроризма просят их о том, чтобы это выключение произошло с «пользой» не только для них (суицидников), но и для других, т.е. в нужной для террористического акта ситуации. Этот тип, как бы продаёт или жертвует своим суицидным желанием во благо терроризма. Организатор терроризма создаёт такие условия, чтобы усугубить суицидные желания своей жертвы и воспользоваться ими.
4. Террористы-инфантилы. Это часто безграмотные, инфантильные (не способные к учёбе и познанию) и неимущие фанаты (в частности религиозные), которые примитивно верят в существование «того света», где будет полное изобилие всяческих удовольствий и радостей. Только они забывают, что радость - это всегда продукт преодоления и дефицита, которого на «том свете» не будет. Их вера основана на нищете и голоде, которым они страдали в течении этой жизни. Организаторы терроризма всегда знают, что «кормить» таких смертников нельзя, чтобы они всегда имели желание «наесться» в раю. Среди этой группы много больных начальной формой олигофрении. Психотехнология манипулирования в данном случае основывается на когнитивных структурах (незнании и безграмотности жертвы)
5. Террористы-зомби. Это одна из самых распространённых технологий манипулирования, основанная на воздействии на психофизиологические структуры. В этом случае искусственно (часто скрытым образом, через систематическое и долгосрочное подсыпание наркотика в чай и супы) создаётся психологическая и физическая зависимость от психоактивных веществ (наркотиков, «травки» и т.п.) На этой основе развивается сильная депрессия, позволяющая «закачивать» в сознание информацию о враге, который является причиной всех страданий данной жертвы. Хотя главным врагом оказывается наркотик, о котором жертва пока не догадывается. Чрезмерное периодическое употребление наркотика постепенно приводит к деградации сознания и потере психического контроля, что способствует более эффективному проведению внешних раппортов и установок (т.е. наркогипноза и зомбирования) на проведение конкретных террористических действий. В этом случае смертницу всегда ведут (пасут) и лишь на заключительной стадии оставляют одну. Очевидно, что зомби чаще всего женщины, в силу того, что деградационные процессы, вызванные наркотиком у них протекают быстрее, чем у мужчин.
6. Террористки-вдовы. Здесь особо следует выделить феномен, который мы назвали «феноменом вечно страдающей вдовы ». Социально-психологические исследования показывают, что многие вдовы после смерти супругов очень долго, вплоть до собственной смерти, страдают депрессией. И часто, это бывает связано не с чувствами вдовы к умершему, а затяжной депрессией, вызванной её алкоголизацией, которая началась со дня поминок. Иными словами, имеет место феномен вторичной депрессии, некоим образом не связанной со смертью супруга (первичная депрессия), а связанный с алкоголизмом вдовы. (Большинство непьющих вдов так не страдают). Хотя вдове может казаться, что все её страдания вызваны смертью супруга. Именно этот феномен используют организаторы терроризма.
Задача террористов перехватить такую страдающую вдову из рук родственников и врачей и оказать «свою помощь». Её подсаживают на наркотики, чтобы снять муки страдания. Благодаря этому, по мере развития наркотической зависимости, депрессия по мужу лишь усугубляется. На этой основе внедряются установки «отомстить за смерть супруга». Таким образом, в данном случае, профилактика терроризма будет основываться на том, насколько удастся перехватить вдову из рук опасных для неё «доброжелателей».
7. Террористы-солидарники. В этом случае чувство солидарности становится опасной психологической ловушкой для потенциального террориста-смертника. Он не должен подводить тех, кто уже ушёл в рай. Он должен также как и они уйти из этого мира и «встретиться с ними в раю», так как они его там ждут. Психологами ещё не до конца изучен феномен солидарности. Но уже существуют методы нейро-лингвистического программирования, направленные на снятие зависимости от опасной солидарности.
8. Террористы-эксплуатируемые. До сих пор, мы рассматривали потенциальных террористов-смертников, которые являлись жертвами манипуляции и для них была характерна иллюзия самостоятельности принятого решения и поэтому смертник шёл на теракт благодаря «собственному согласию и желанию». То есть, имело место скрытое воздействие со стороны манипуляторов-организаторов терроризма. В данном случае всё делается в открытую. Жертва не желает погибать, но в силу определённых причин (насилия, финансовой зависимости, деньги, льготы для своих родственников после смерти шахида, долга, штрафа, искупления грехов, ответственности, безысходности, дуло пистолета за спиной, искупления за позор и т.д.) Кроме того, организуется всё таким образом, чтобы жертва была обречена идти на теракт. Так например, у лётчиков-камикадзе отбирали парашют, шасси и т.д.
9. Террористы-гибриды. Необходимо отметить, что вышеприведённая типология условна и в действительности имеют место смешанные типы потенциальных террористов-смертников.
Теперь от психологических феноменов терроризма перейдём к социальным.
В силу того, что мы живём в эпоху постмодернизма (феномена масс-медиа и информационных технологий), терроризм в настоящее время принимает специфические черты, отличные от террористических актов прошлого (например, феномена камикадзе). Терроризм камикадзе был продуктом модернизма, при котором был:
- Конкретный враг, которого необходимо уничтожить.
- Конкретное место, где находится враг.
- Последствия камикадзе отражались на небольшом участке земли.
Современный терроризм - это транстерроризм, который уже смешался не только с политикой и экономикой, но и религией и др. Для современных террористов нет конкретного врага именно поэтому часто гибнут не в чём невиноватые люди. Для террористов важнее не само насилие как таковое, а тот резонанс, который может быть вызван терактом во всём мире. Планета как никогда стала синергетичной и непредсказуемой. Шахиды стали постмодерновыми камикадзе.
Хаотические террористические акты, обусловленные патологическими личностями, локальными криминальными группировками, политическими диссидентами (революционерами), исполнителями-одиночками и т.д., в настоящее время уходят на задний план. (Хотя их также нельзя выводить из внимания т.к. в любой социальной группе есть процент скрытно действующих агрессивных личностей. Кроме того нельзя не учитывать роль архетипов социума, сформировавшихся революционным и коммунистическим прошлым России.). Терроризм в настоящее время приобретает чёткие целенаправленные черты, обусловленные противостоянием процветающего прагматического Запада и испытывающего негативные социальные потрясения и испытания Востока. Россия как раз и явилась пограничной зоной этого противостояния. Таким образом, в настоящее время как никогда обострились глобальные политические и экономические интересы и террроризм стал замаскированной формой войны Востока и Запада. Он стал немым диалогом этой войны. При этом, обе стороны делают вид, что ничего не происходит и снимают с себя ответственность за эти действия, зарабатывая политические дивиденды и власть. Поэтому исполнители, по видимому, порой не знают истинного целостного понимания места и роли террористических актов в этой сложной социально-политической и экономической конфронтации, довольствуясь лишь материальными или маниакально-психологическими удовлетворениями, подпитанными различными идеологиями (национальной, религиозной, военной и т.п.) и местью за своих погибших родственников. Поэтому, в целом, на наш взгляд, всех исполнителей гипотетически можно разделить на следующие группы:
- Прагматиков, имеющие чисто финансовый интерес. (Согласно латентному соц. опросу есть такой процент и он будет расти по мере ухудшения материального положения.)
- Актёров, выступающих перед всем обществом. Эта группа удовлетворяет свои маниакально-психологические потребности благодаря СМИ. Стоит лишь прекратить освещать террористические акты в СМИ, как у них резко исчезнет интерес к террору.
- Мстители за погибших родственников.
- Психопатологические личности.
- Национал-патриоты (ригидно-религиозные личности). Их число падает по мере получения ими объективной информации о месте и роли терроризма в обществе.
- Психогенетические агрессивные самородки (Феномен беспричинного терроризма).
- Активисты движения типа «Народ против мафии».
- Упреждающие действия рекетиров.
- Смешанный тип.
Таким образом, на наш взгляд, проблем с выбором исполнителей террористических актов у заказчиков нет. Социум имеет значительные социальные группы, предрасположенные к совершению террористических актов. Поэтому цели и задачи исполнителей и заказчиков, в большинстве случаев, по видимому, не совпадают. Это лишь на руку самим заказчикам, в силу того, что благодаря этому их трудно рассчитать.
Объекты выбираются террористами согласно пространственно-физическим (замкнутое пространство и особенности распространения взрывной волны), временным (оптимальность с точки зрения количества людей и милиции), геополитическим (стратегические ресурсы и лидеры регионов России), социально-контрастным (перепад материального благополучия и нищеты), ситуационным (невозможность провести взрывчатку) , смешанным факторам и др.
Таким образом, трудно указать на предполагаемые объекты. Это широкий спектр, вбирающий в себя всё то, что соответствует вышеприведённым факторам.
Тактику и стратегию террористических актов вероятнее имеют лишь заказчики. Основной тактикой является грамотное использование перерывов между террористическими актами, дабы снизить бдительность правоохранительных органов. Таким образом, это долговременный процесс.
Оптимизм вызывает лишь тот факт, что в России имеет место большой разрыв между возможными (рассчитанными на основании количества свободной взрывчатки на душу населения и предрасположенных к террору социальных групп) и совершающимися террористическими актами. Заслуга в этом не правоохранительных органов, а заказчиков и потенциальных исполнителей, которые пока ещё не потеряли чувство разума.
Участившиеся сводки о захваченных самолетах или автобусах, взрываемых посольствах или станциях метро - это нечто далекое, не касающееся конкретно нас. Однако не стоит так расслабляться, поскольку потенциальных террористов среди нас не так уж и мало.
Благодаря З.Фрейду многие наши измышления были так или иначе завязаны на сексуальной энергии человека (либидо). После того как началась вторая мировая война, великий Фрейд плюнул на свой вымученный долгими годами психоанализ, разочаровавшись в культурной Германии, так красиво писавшей, говорившей, любившей классику и вдруг превратившейся в фашистскую. «О, Боже мой! - воскликнул Фрейд. - Я то думал, что так интенсивно может выходить лишь сексуальная энергия, но оказывается, мортидо - энергия инстинкта смерти и агрессии - не дремлет...» (Мортидо - это энергетические напряжения, снимаемые разрушением, нанесением ущерба, устранением. Величайшее удовлетворение мортидо достигается путем убийства или самоубийства. - Из психол. словаря).
В результате социологического опроса, проведенными нами, 28% опрошеннных ответили, что террористы - это максимально доведенные до отчаяния и безысходности люди. 12% респондентов думают примерно так: террористы - это «коммерсанты», для которых важно заработать, причем любыми способами. 11% респондентов считают их психически больными людьми, а полпроцента - патриотами.
В нынешнем обществе человек находится в состоянии фрустрации (фрустрация - неспособность к снятию напряжения из-за трудностей, связанных с окружающей действительностью, или внутреннего психического конфликта. - Из психол. словаря), то есть его жизненные цели заблокированы, желания не совпадают с возможностями, а отсюда и растерянность.
Безысходность освобождает энергию мортидо...
Как можно заметить из вышеприведенных результатов социсследований, почти половина из опрошенных казанцев затруднилась дать определение террористам. И любопытно, что никто из горожан не высказал резко негативного отношения к ним: как к злодеям, достойным истребления. Конечно, трудно провести грань между терроризмом и героизмом. Особенно у нас, где многие поколения воспитывались на «героических подвигах», например, Александра Ульянова, который по мировым канонам является банальным террористом.
Терроризм нужно рассматривать на метафизическом уровне (борьба религий), социальном («холодная война»), социально-психологическом (взаимодействие личности с государством), психологическом (конфронтация между отдельными индивидами, человеком и коллективом), физиологическом (выпады психически больных людей). Можно выделить криминальный и экономический терроризм.
Существует концепция, которая представляет терроризм как гигиену мира: мол, не было бы его, земля задохнулась бы от войн.
В оперативном плане в борьбе с этим явлением мы ушли далеко: пушки-хлопушки, ребята в касках и с автоматами, планы захвата... А вот к профилактической работе должны вплотную подключиться психологи и СМИ.
Человек может стать пешкой в чьей-то большой и грязной игре, а потом, отыграв свою партию, - козлом отпущения. Как правило, состоявшийся террорист впоследствии уничтожается. А его роль, которую он считал слишком значимой, оказывается ничтожной.
Но террористами становятся не только слабовольные, поддающиеся дрессировке люди, руками которых главные манипуляторы делают свое дело, но и чересчур властолюбивые, не способные достичь успехов в другой области. «Я мечтаю взять на мушку президента. Какое это сладкое чувство - ощущать свою власть над ним», - признавался один такой «герой». Подобные люди психологически больны: они страдают некой манией - «весь мир в моих руках».
Коль энергия мортидо «сидит» в каждом из нас, то теоретически террористом может стать любой человек - все зависит от его ума, психологического здоровья, а также от ситуации в стране. Особую тревогу вызывают эдакие «петушки», имеющиеся в наличии в «ячейках» общества. Например, маленькие школьные задиры, у которых чешутся руки просто так, без всякой причины стукнуть кого-нибудь по голове. На бытовом уровне лучше не взаимодействовать с индивидом, задающим вопрос: «Чего это ты на меня не так посмотрел?» Нужно быть выше подобного субъекта и относиться к нему как к больному.
Велика вероятность стать террористами у детей, склонных к живодерству, а также... подолгу сидящих за компьютерами, поскольку у последних пропадает тяга к живому миру.
Когда психоаналитик общается с состоявшимся террористом, то приходит к выводу, что «вояка» шел к своему нынешнему положению долгие годы, а началось все с каких-либо сбоев, к примеру, в семье. Большую угрозу всплеска терактов несет увеличивающееся количество наркоманов, которые без необходимой дозы находятся в состоянии фрустрации и готовы на все. Способствуют угрозе и расслоение, обнищание общества. Опасно устраивать пиры во время чумы, а рядом с бедными хибарами возводить новомодные дворцы. Поэтому в мегаполисах цивилизованных стран во избежание провокаций, вызываемых раздражением, есть четкое разделение на богатые, средние и бедные кварталы...
Общество опустилось, стало более грешным, поэтому столь популярны скрытые дьявольские формы общения между людьми и странами. Террор - болезнь не только ко всей планеты, но и каждого человека в отдельности.
© Р.Р. Гарифуллин , 2010 г.© Публикуется с любезного разрешения автора
Психологический террор может начаться как в конфликтной ситуации, так и в близких, доверительных отношениях. По каким признакам можно обнаружить начало психологического и морального террора?
Исключение сотрудника из активной жизни компании, что достигается при помощи перекрывания каналов коммуникации: не сообщают важной информации или сообщают ее слишком поздно, не зовут на ответственные совещания и т. п.
Изолирование человека от неформальных личных контактов: не здороваются, не приглашают на вечеринки, не делятся личными новостями.
Распространение негативной информации и сплетен. Крики и оскорбления являются апофеозом морального преследования.
Игнорирование успехов. Распространено в отношениях работник - руководитель. «Неугодному» сотруднику не повышают зарплату, «забывают» о премиях, не посылают на обучение, никогда не хвалят.
Мелкие пакости: перекладывание бумаг на рабочем столе, выведение из строя аппаратуры, удаление ценных файлов.
Активно поддерживаемая коллегами травля по причине того, что сотрудники часто опасаются открыто сочувствовать жертве, дабы не занять ее место.
Конечно, некоторые реакции вызваны нездоровой психологической атмосферой, которая царит в организации, а также жаждой власти над другими и личной злобой, продиктованной страхами или завистью; однако как ни странно, часто жертвы бессознательно сами на себя навлекают несчастья. То есть с одной стороны, механизм психологического террора заложен в организации, с другой - в этот механизм попадет человек с определенной моделью поведения: «козел отпущения».
«Козел отпущения» выполняет важную психологическую функцию: он позволяет группе самоутверждаться и дает ей ощущение превосходства. В большой социальной группе «козлом отпущения» может быть не только один человек, но и целая группа (отдел). Там где менеджмент использует «козла отпущения» как инструмент, последний становится своего рода символом, знаком, поданным сверху, сигнализирующим о том, в какую сторону и на кого коллектив может направить свое недовольство и на ком можно «отыграться», обвинив его «во всех грехах и неудачах». А главное, появление «козла отпущения» позволяет возложить вину за собственные неприятности на того, кто в данный момент не способен оказать сопротивление. Наличие «козла отпущения» в коллективе можно назвать болезнью конкретной социальной группы, жертвами которой становятся люди морально слабые, инфантильные, не имеющие устойчивого собственного мнения. Большинство «козлов отпущения» страдают «болезненной гордыней», они считают ниже своего достоинства вступать в разборки с коллективом. И чем больше они гордятся своей этичностью, тем больше коллектив старается их «достать» - ну кому не обидно, что его не уважают. Поиск «козла отпущения» обычно происходит, когда члены одной группы чувствуют угрозу, но не в состоянии обнаружить ее настоящий источник и противостоять ей. Поэтому они выбирают жертву и «отыгрываются» на ней.
«Козел отпущения» объединяет психопатов и невротиков. Первые (психопаты) очень хорошо чувствуют слабость вторых (невротиков) и с ходу «бьют» их, от чего их отрицательные черты усиливаются: невротики еще сильнее невротизи-руются, ну а психопаты распускаются и психопатизируются. Каждый получает свою долю адреналина в своей группе, удовлетворяя тайную потребность в самоутверждении.
В «застоявшемся коллективе», где уже есть свои неформальные лидеры, наблюдается «вертикальный моббинг» подчиненных по отношению к новому руководителю. Если он коллективу «не понравился», то ему не позавидуешь. Любой руководитель, попытавшийся слишком активно расшевелить болото, внедрить нововведение, вызовет в первую очередь страх - тот самый, который провоцирует желание избавиться от его источника.
Средств достижения такой цели множество: запугивание, утаивание необходимой информации, клевета, непрекращающаяся критика, распространение слухов, высмеивание, повышенный тон, унижение достоинства.
Буллинг обозначает проявление психологического террора «один на один». И хотя буллинг или моббинг могут показаться вполне безобидными по сравнению с физическим насилием, если травля продолжается достаточно долго, последствия ее настолько разрушительны, что некоторые люди подумывают о суициде. Подвергнуться моббингу и буллингу может каждый человек с психологией жертвы. Такого человека можно назвать «профессиональным козлом отпущения»: куда бы он ни приходил, его жизнь в коллективе развивается по привычному сценарию - он становится жертвой, т. к. для многих «козлов» лучше быть «жертвой», но на виду, чем пустым местом.
Моббинг и буллинг процветают в той организации, в которой менеджеры и руководство оставляют без внимания подобное поведение своих сотрудников и потакают им, иногда даже сами опосредованно провоцируют коллектив. Именно поэтому жертва становится беспомощной и затравленной, а потому ей очень редко удается получить помощь.
Продолжение
Изучение личности террориста - дело крайне трудное. Террористы практически не доступны исследователям. Они готовы встречаться с журналистами с целью пропаганды своих взглядов, но контакт с психологами для них нежелателен. Для объяснения террористической деятельности используются личностные и групповые факторы.
Личностные факторы. Зарубежные и отечественные психологи безуспешно пытались создать профиль типичного террориста. Люди, которые присоединяются к террористическим группам, принадлежат к разным культурам, имеют различное этническое происхождение, исповедуют разные религии, придерживаются разных идеологий.
Исследования личности террориста проводились рядом зарубежных ученых [Ч. А. Рассел и Л. X. Мельник]. Авторы выделили следующие факторы:
- - возраст. Средний возраст активных участников терроризма составлял 22-25 лет;
- - пол. Большинство террористов являлись мужчинами;
- - образование. Большинство террористов имели среднее или высшее образование, очень небольшой процент из них были не образованы или неграмотны;
- - профессия. 70% новичков латиноамериканских городских террористических групп были студентами. В Европе Берлинский университет служил источником вербовки новобранцев;
- - социально-экономический статус. Высоко образованные люди чаще занимали позиции лидеров. Они занимали легитимный статус в обществе и имели профессии докторов, банкиров, адвокатов, инженеров, журналистов, профессоров университетов;
- - общие черты личности. Авторы исследования отмечают такие черты, как хитрость, инициативность, жестокость, лояльность в отношении друг друга, проявление гораздо большей жестокости в отношении предателя, чем к врагу, хорошее знание современного оружия, умение вождения разными видами транспорта, овладение средствами связи;
- - семейное положение. Более 80% террористов были холостяками и только 20% состояли в браке;
- - внешний вид. Террористы - здоровые, сильные люди, неприметные по внешности и манере поведения, чтобы легко раствориться в толпе. Они проходят строгий отбор и обучение. Они умеют переодеваться, могут подвергнуть себя пластической хирургической операции;
- - происхождение: сельское или городское;
- - общественно-политический строй. Было замечено, что террористы были активны в Чили в течение правления военного режима (1973- 1900). Противотеррористические действия демократического правительства в 90-х годах резко сократили их активность [Агуирре К. X. Э., с. 18-20].
Последние годы внесли существенные коррективы как в личность террористов, так и психотип их поведения. Во многих странах мира, в том числе и в России, стал широко распространен такой тип, как террористы-смертники, среди которых особенно много женщин и молодых мужчин, исповедующих радикальные религиозные взгляды.
Итальянский исследователь Ф. Бруно перечисляет одиннадцать психологических черт, присущих террористам:
- - двойственное отношение к власти;
- - искаженное понимание действительности;
- - приверженность стандартным поведенческим образцам;
- - эмоциональная отрешенность от последствий своих действий;
- - неопределенность сексуальных ролей;
- - суеверие, вера в волшебство;
- - стереотипное мышление;
- - эго-разрушительные действия;
- - ограниченность источников информации;
- - восприятие оружия как фетиша;
- - приверженность сильным субкультурным нормам [Агуирре К. X. Э., с. 21]i.
Описывая мотивацию террористической деятельности, отечественный психолог Д. В. Ольшанский выделяет семь типов мотивов.
- 1. Меркантильные мотивы. Для определенного числа людей занятие террором - это способ заработать деньги.
- 2. Идеологические мотивы. Такой мотив возникает как результат вступления человека в некую общность, имеющую идейно-политическую направленность.
- 3. Мотивы преобразования и активного изменения мира. Эти мотивы связаны с переживанием несправедливости в существующем устройстве мира и желанием его преобразования на основе субъективного понимания справедливости.
- 4. Мотив власти над людьми. Через насилие террорист утверждает себя и свою личность. Вселяя страх в людей, он укрепляет свою власть.
- 5. Мотив интереса и привлекательности террора как сферы деятельности. Террористов может привлекать связанный с террором риск, разработка планов, специфика осуществления террористических актов.
- 6. Товарищеские мотивы эмоциональной привязанности в террористической группе. Такими мотивами могут быть: мотив мести за погибших товарищей, мотивы традиционного участия в терроре, потому что им занимался кто-то из родственников.
- 7. Мотив самореализации. Это - парадоксальный мотив. С одной стороны, самореализация - удел сильных духом людей. С другой стороны, подобная самореализация - признание ограниченности возможностей, констатация несостоятельности человека, не находящего иных способов воздействия на мир, кроме насилия [Ольшанский Д. В., 2002, с. 118-11912-
Основные качества личности террориста описаны в литературе как требования к членам террористических организаций. Бойцы террористических организаций, таким образом, должны обладать следующими качествами:
- 1. Преданность своему делу (террору) и своей организации.
- 2. Готовность к самопожертвованию.
- 3. Выдержанность, дисциплинированность, способность контролировать свои эмоции, порывы, инстинкты.
- 4. Умение соблюдать конспирацию, регулировать удовлетворение своих потребностей.
- 5. Повиновение, безоговорочное подчинение лидеру.
- 1 См. также: Психология терроризма: учеб.-метод. пособие / сост. Э. Л. Боднар. - Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2013.
- 2 См. также: Ольшанский, Д. В. Психология террориста // Психология террористов и серийных убийц: хрестоматия. Минск: Харвест, 2004.
- 6. Коллективизм - способность поддерживать хорошие отношения со всеми членами боевой группы. [Ольшанский Д. В., 2002, с. 124- 125].
Для личности террориста характерно то, что весь мир замыкается на своей группе, своей организации, на целях своей деятельности. Поэтому организация накладывает жесткие требования на индивидуальность человека, ограничивая свободу его выбора. Д. В. Ольшанский отмечает, что личность террориста отличает психологическая ущербность, дефицит чего-либо в жизни, корни которого прослеживаются с самого детства. Такая ущербность приводит к потребности гиперкомпенсации в первую очередь за счет других людей. В психике террориста эмоции занимают больше места, чем рациональное мышление. Террористы - особый тип людей, у которых рациональные компоненты в поведении и характере почти отсутствуют, а эмоциональные компоненты преобладает до такой степени, что становятся аффективными. В этом отношении психика террористов приближается к психике человека толпы. Низкий уровень культуры и искаженные представления об окружающем мире, о том, что только насилие и угрозы являются наиболее эффективными способами преобразования мира, делают личность террориста особым социокультурным феноменом.
Серьезные моральные проблемы присущи только идейным террористам, с достаточно высоким уровнем образования и интеллектуального развития, способным отрефлексировать свои поступки. Для большинства же террористов характерно наличие примитивных синдромов, препятствующих разрешению сложных этических и моральных проблем. Д. В. Ольшанский называет три таких синдрома.
- 1. Синдром Зомби проявляется в постоянной естественной сверхбоеготовности, активной враждебности по отношению к реальному или виртуальному врагу, устремленности на сложные боевые действия. Это синдром бойца. Такие люди постоянно живут в условиях войны, они всячески избегают ситуаций мира и покоя, блестяще владеют оружием.
- 2. Синдром Рембо выражается в невротической структуре личности, раздираемой конфликтом между стремлением к острым ощущениям и переживаниями тревоги, вины, стыда, отвращения за свое участие в них. Для подобных людей характерно осознание добровольно возложенной на себя миссии спасения мира, мысль о благородных альтруистических обязанностей, позволяющих реализовать агрессивные стремления. Это синдром миссионера.
- 3. Синдром камикадзе-шахида свойствен террористам-смертникам, уничтожающим себя вместе со своими жертвами в ходе террористического акта. К основным психологическим характеристикам таких людей относится экстремальная готовность к самопожертвованию. Террорист-камикадзе счастлив возможности отдать свою жизнь и унести на тот свет с собой как можно больше врагов. Для этого он должен как минимум преодолеть страх собственной смерти. Многочисленные свидетельства говорят, что террористы боятся не самой смерти, а связанных с нею обстоятельств: ранений, беспомощности, вероятности попадания в руки полиции, пыток, издевательств. Вот почему террористы скорее готовы к самоубийству, чем к самосохранению. Поскольку реально они присваивают себе право распоряжаться чужими жизнями (жизнями своих жертв), то право распоряжаться собственной жизнью подразумевается автоматически [Ольшанский Д. В., 2002, с. 145-154].
Групповые факторы. Зарубежные ученые полагают, что психология групп в большей степени способна объяснить терроризм, чем психология отдельного индивида. Они считают, что не существует никакого особого типа террориста или специфического террористического мышления. Определяющие влияния оказывают групповые или ситуационные факторы жизнедеятельности.
Террористические группы - это военизированные подразделения боевых организаций. Роли в группах распределены таким образом: инициаторы, организаторы и исполнители террористических актов. В тени за пределами группы стоят заказчики и финансисты террористических актов. Преступные группы характеризуются следующими чертами: 1) разделением ролей, выполняемых членами группы;
- 2) наличием лидера; 3) общностью цели и совместной деятельности;
- 4) устойчивыми межличностными отношениями и сплоченностью группы; 5) психологическим единством группы, выражающемся в субъективном понятии «мы»; 6) жестким психологическим давлением к проявлению единомыслия и согласия с лидерами. Членство в таких группах обеспечивается гипертрофированным чувством самомнения, ощущением принадлежности к новой вере, которая провозглашает террористический акт как нравственно приемлемый и крайне важный, ощущение мощи группы, потенциальный доступ к богатству.
Террористические группы подобны религиозным сектам или культам. Они требуют определенных обязательств от своих членов: запрещают отношения с посторонними, объединены в общину, регулируют, а иногда и запрещают сексуальные отношения, требуют от своих членов взаимозависимости и доверия, пытаются внушить ему специфическую идеологию, создают культ террористической группы. В таких объединениях индивидуальная идентичность отдельного человека замещается групповой, которая в момент совершения террористического акта достигает пика.
В террористической группе наиболее ярко проявляется эффект группо- мыслия - способ мышления, приобретаемый людьми в ситуации, когда согласие становится настолько доминирующим в сплоченной группе, что начинает пересиливать реалистическую оценку возможных альтернативных действий, иного образа жизни. Американский ученый И. Джанис, открывший эффект группомыслия, отмечает, что в этом случае группам свойственны иллюзия неуязвимости, неотвратимости победы, чрезмерный оптимизм, высокая склонность к риску, восприятие врагов как необыкновенного зла, нетерпимость к иным точкам зрения и аргументам. Террористические группы отрицают общечеловеческие нормы и ценного сти, действуют так, как будто единственным способом выжить в окружающем мире является поиск врага и борьба с ним. Члены групп должны подчиняться всемогущему лидеру, который предстает перед ними в роли мессии, спасающего и создающего лучший мир на Земле.
В террористической группе на рядового члена группы оказывается:
- - давление на принятие полной зависимости от группы;
- - давление на совершение насилия над другими людьми.
Взаимоотношения в террористической группе построены таким
образом, что на каждого члена оказывается сильное давление на его мнение и поведение с целью сформировать его полную зависимость от группы. Для новичка группа становится семьей, лидеры заменяют родителей, другие члены группы - друзей. Общение замыкается только внутри группы, возникает эффект замены окружающего мира миром внутригрупповым. Членство в группе, как правило, является безвозвратным, инакомыслие пресекается, выход из группы жестко карается.
Принадлежность к такой группе дает человеку ощущение «революционного героизма», повышение самомнения. Террористам внушается, что их личная честь зависит от жестокости и степени насилия, которые они проявляют по отношению к врагу. Террористы живут в условиях особой субкультуры, отделенной от действительности.
Слабым звеном в организации преступной, в том числе и террористической группы - отмечает В. П. Илларионов, - является обязательное наличие в ней индивида, уступающего лидеру в силе характера, степени агрессивности, отличающемуся трусостью, а также наличием чувств взаимного недоверия и подозрительности, усугубленных экстремальностью ситуации. Лидер группы обычно испытывает особую подозрительность к соучастникам, которые могут предать [Илларионов В. П., 1993, с. 93-94]. Поэтому он должен постоянно контролировать своих соучастников. В группах, где высока взаимная подозрительность, частота конфликтов обычно превышает обычный средний уровень конфликтности. Психологические особенности террористической группы важно знать при проведении их захвата или ведения переговоров по освобождению заложников.
Введение
Надо признать, что такой опасный социально-политический фактор, как терроризм, который еще десятилетие назад был в нашей стране событием из ряда вон выходящим, превратился чуть ли не в повседневную реальность современной жизни. Причин тому не мало. В условиях развала сложившихся стереотипов в области политики, экономики и права, в социальной и иных сферах жизни государства и общества утрачены прежние, десятками лет выработавшиеся механизмы упорядочения и конституционного регулирования отношений, прямо или косвенно влияющих на основы государственного общественного устройства. Фактически в значительной степени утрачены такие дисциплинирующие и цементирующие общественную жизнь начала, как патриотизм, чувство долга, нравственность, интернационализм.
Терроризм в любых его проявлениях является одним из самых опасных, разрушительных и насильственных деяний, направленных против человека.
Имеющие место случаи проявлений терроризма в стране вызывают резкий общественный резонанс, в результате у людей появляется тревога за свою безопасность, безопасность родных и близких.
Акции терроризма совершаются с особой жестокостью, причем это изначально планируется их организаторами. Террористическая акция, помимо причинения непосредственного ущерба жертве, рассчитана на определенный психологический эффект - посеять страх, создать угрозу широкому кругу лиц. Любой акт терроризма рассчитан на устрашение всех, кто не согласен с террористами. Таким образом, он наносит не только материальный, экономический и политический ущерб стране, но и моральную травму обществу.
Терроризм относится к числу общечеловеческих проблем. Сегодня терроризм представляет собой серьезную угрозу государству обществу и личности и требует в этой связи адекватной ответной реакции.
Выбранная мной тема является актуальной, так как терроризм представляет собой угрозу человечеству, которая с каждым днем усиливается. В связи с этим, данной проблемой в 90-х годах XX века активно занимались такие специалисты - исследователи терроризма и его психологии как Ю. М. Антонян, В. В. Витюк, Д. В. Ольшанский, В. Ф. Пирожков, С. А. Эфиров и др.
Таким образом, в моем исследовании будет рассмотрен опыт, в конце прошлого - начале нынешнего века.
террорист смертник психология мотив
Психология террористов
Проблема терроризма - многоаспектная. В ней, по мнению доктора психологических наук, ведущего научного сотрудника Института развития личности РАО В. Ф. Пирожкова, «наряду с социальным, правовым, экономическим следует особо выделить и психологический аспект, требующий всестороннего рассмотрения и глубокого изучения.» Выступление на «круглом столе» по изучению феномена терроризма («Государство и право» №4, 1995 г.)
Что представляют собой люди, совершающие террористические акты, с точки зрения психологии? Каковы психологические мотивы действий?
Сначала надо определить психологический профиль лиц, способных к совершению террористического акта, или тех, кого могут использовать руководители террористических групп для подобных деяний. Прежде всего, это лица, не сумевшие реализовать себя в политической сфере, но рвущиеся к власти и обладающие неким комплексом неполноценности. С ними смыкаются бандитствующие элементы, уже пролившие кровь и способные за деньги выполнить любой заказ террористических организаций.
Террористы - это особый класс людей. В своей значительной части это своего рода подвижники с отрицательным знаком, отмеченные избранностью и двойственным отношением к жизни: с одной стороны, они хотят сделать ее справедливой и правильной, а с другой - уничтожают ее, убивая многих для достижения своих идеалов. Вместе с тем у них явственно проявляется стремление выйти за рамки своего повседневного, будничного существования, наполнить его яркими красками, необычными событиями, риском, острыми переживаниями, наконец, что особенно важно, соприкоснуться со смертью, даже уйти в нее. Соответствующий психологический эффект достигается двояким путем: когда экстремист рискует своей жизнью, ставя ее на грань небытия, и когда он убивает.
По мнению таких специалистов как В. В. Витюк и С. А. Эфиров, террористам присуща предельная нетерпимость к инакомыслию и фанатизм, порожденным максималистским идеалистическим утопизмом, ненавистью к существующему строю или обостренным чувством отчужденности. Им свойственна твердая вера в обладание абсолютной, единственной и окончательной истиной, вера в мессианское предназначение, в высшую - и уникальную - миссию во имя спасения или счастья человечества. Описываемый тип личности - «закрытый» тип, потому что он исключает всяческую критическую мысль, свободу выбора, несмотря на то, что видит мир только в свете предустановленной «единственной истины», хотя она, быть может, не имеет никакой связи с реальностью или давно ее утратила.
Терроризм представляет собой порождение деструктивных (разрушительных) сил в обществе и человеке, отражает культ насилия и всемерно способствует его усилению и распространению, обесценивая человеческую жизнь. Терроризм резко снижает значимость законов и возможность компромиссов, возводя наглую жестокую силу в ранг едва ли не главного регулятора жизни.
Террористы часто нуждаются в огласке своих действий и по той или иной психологической причине, что в реакциях средств массовой информации, политических и государственных деятелей и других людей они, как в зеркале, видят свое признание и подтверждение своей исключительности.
Для всех террористов характерно презрение к человеческой жизни, все они считают возможным ради достижения высокой, с их точки зрения, цели жертвовать жизнями ни в чем не повинных людей.
В террористы привлекаются социально неприспособленные, малоуспешные люди. Они плохо учились в школе и в вузе, они не смогли сделать карьеру, добиться того же, что их сверстники. Они всегда страдали от одиночества, у них не складывались отношения с представителями противоположного пола. Словом, везде и всегда они были отстающими, нигде они не чувствовали себя по-настоящему своими.
В абсолютном большинстве случаев террористы - это молодые люди в возрасте около двадцати лет, плюс-минус пять лет, получившие воспитание в патриархальной и весьма религиозной культуре.
В их сознании обычно присутствуют устойчивые представления об исторической травме своей нации и мощные эмоциональные связи с последней. Типичные социальные чувства - скорбь и горе, в сочетании с ущемленной национальной гордостью. Для террористов характерны особые представления об «историческом обидчике» и потребность в его наказании и возмездии. Эти представления дополняются актуальной психической травмой, связанной с реальными фактами гибели родных, близких и просто соплеменников.
Таким образом, террорист практически не поддается рациональному разубеждению. Ему практически неведом страх и раскаяние в совершаемом или совершенном, как полагал специалист Михаил Решетников.
Важным источником пополнения кадров террористов являются наемники, побывавшие в разных конфликтных регионах, сражавшихся то на одной, то на другой стороне. Для их психологии важно одно: кто более заплатит, а часто они побуждаются просто «интересом убивать», «почувствовать власть над людьми», «показать свое превосходство над другими».
Среди террористов много лиц, которые в детстве, молодости подвергались унижениям, не могли самоутвердиться. Это люди, которые не смогли реализовать свои идеи.
Очень многие террористы - это люди, которые в свое время, выступая за какие-то права и свободы, были осуждены государством, выброшены, поставлены за черту закона, и для них терроризм становится социальной местью этому государству.
Не следует сбрасывать со счетов и лиц с различными собственно психическими аномалиями, внушившими себе комплекс превосходства над другими. Надо заметить, что их деятельность стимулируется средствами массовой информации, раскрывающими не только способы и средства, используемые в террористических актах, но и популяризирующие личности их исполнителей. Своевременное изучение такого контингента позволяет применять превентивные, то есть предупреждающие меры по недопущению терактов.
Совершая террористический акт, его исполнитель переступает через определенную черту (преступает закон), а это требует соответствующих механизмов психологической защиты и самооправдания. Знание этих механизмов позволяет понять мотивацию террористов. Наиболее часто они считают свои действия вынужденными, поскольку другие средства не позволили им достичь поставленных целей. Террорист оправдывается тем, что к действиям его якобы побудило нарушение в обществе справедливости или неосуществление каких-то его прав.
Люди, вступающие в ряды террористов, - это выходцы из разных социальных слоев и жизненных сфер. Что движет человеком, который становится членом террористической организации? Чего он этим добивается? Существует, очевидно, набор личностных черт, которыми должны обладать террористы.
Практически все исследователи указывают на следующие наиболее характерные черты личности террориста:
1. Комплекс неполноценности. Он чаще всего является причиной агрессии и жестокого поведения, которые выступают в качестве механизмов компенсации. Комплекс неполноценности ведет к сверхконцентрации на защите своего «Я» с постоянной агрессивно-оборонительной готовностью.
2. Низкая самоидентификация. Террористическая группировка помогает индивидууму избавиться от недостатка психосоциальной идентификации, выполняя функцию психостабилизирующего фактора.
3. Самооправдание. Очень часто политико-идеологические мотивы указывают на главные побудительные причины вступления на путь терроризма, но, как правило, они являются формой рационализации скрытых личностных потребностей - стремления к усилению личностной идентификации или групповой принадлежности.
4. Личностная и эмоциональная незрелость. Большинству террористов присущи максимализм (крайность в требованиях, взглядах), абсолютизм, часто являющийся результатом поверхностного восприятия реальности, политический и теоретический дилетантизм.
В террористических организациях обычно велик процент агрессивных параноидов. Их члены склонны к экстернализации, к возложению ответственности за неудачи на обстоятельства, и поиску внешних факторов для объяснения собственной неадекватности. Причем необходимо отметить, что экстернализация присуща практически всем категориям террористов. Такая особенность является психологической и идеологической основой для сплачивания террористов и, несомненно, принадлежит к числу ведущих. Данная личностная установка активно возбуждает ненависть к представителям иных национальностей, религиозных или социальных групп, приписывая им самые отвратительные черты, объясняя собственные недостатки, неудачи и промахи только коварством и злобой врагов. Отсюда особая жестокость при совершении террористических актов, отсутствие сопереживания их жертвам. Как показали многие исследования, для конкретных лиц, обвиняемых в терроризме, непереносимо признать себя источником собственных неудач.
Другие характерные психологические черты личности террористов - постоянная оборонительная готовность, чрезмерная поглощенность собой и незначительное внимание к чувствам других, иногда даже их игнорирование. Эти черты связаны с паранойяльностью террористов, которые склонны видеть постоянную угрозу со стороны «других» и отвечать на нее агрессией.
Паранойяльность у террористов сочетается с ригидностью (недостаточные подвижность, переключаемость, приспособляемость мышления), застреваемостью эмоций и переживаний, которые сохраняются на длительный срок даже после того, как исчезла вызвавшая их причина. Ригидные явления и процессы ведут как бы автономные от личности переживания. Многие террористы испытывают болезненные переживания, связанные с нарциссическими влечениями, неудовлетворение которых ведет к недостаточному чувству самоуважения и неадекватной интеграции личности. Вообще нарциссизм имманентно присущ террористам, причем не только лидерам террористических организаций, но и рядовым исполнителям. Эту черту можно наблюдать среди террористов, относящихся к разным категориям, особенно в их высказываниях, в которых звучит явное торжество по поводу их принадлежности к данной группе. Они убеждены в своем совершенстве, в своих выдающихся личных особенностях и превосходстве над другими только или главным образом по той причине, что принадлежат к данной этнорелигиозной группе, которая является единственно «правильной». Чтобы доказать это себе и другим, такой террорист совершает дерзкие нападения и пренебрегает общечеловеческим ценностям.
В эгоизме преследователя, возможно, кроется объяснение того, почему ужасные акты террористов могут совершаться столь хладнокровно, предумышленно и расчетливо. При всем различии террористических группировок всех их объединяет слепая преданность членов организации ее задачам и идеалам. Можно подумать, что эти цели и идеалы мотивируют людей к вступлению в организацию. Но это оказывается совсем не обязательно. Цели и идеалы служат рациональному объяснению принадлежности к террористам. Настоящая причина - сильная потребность во включенности, принадлежности группе и усилении чувства самоидентичности. Обычно членами террористических организаций становятся выходцы из неполных семей, люди, которые по тем или иным причинам испытывали трудности в рамках существующих общественных структур, потеряли или вообще не имели работу. Чувство отчуждения, возникающее в подобных ситуациях, заставляет человека присоединиться к группе, которая кажется ему столь же антисоциальной, как и он сам. Общей чертой террористов является, таким образом, сильная потребность во включенности в группу подобных людей, связанная с проблемой самоидентичности. Таким образом, для многих людей, профессионально занимающихся терроризмом, характерна замкнутость в своей группе, ее ценностях, целях ее активности. Такая сосредоточенность на первый взгляд свидетельствует о целостности личности, но на самом деле ведет ее к культурологической изоляции, накладывает жесткие ограничения на индивидуальность человека и свободу его выбора. В такой ситуации человек еще более резко начинает делить весь мир на свой и чужой, постоянно преувеличивая опасности, грозящие со стороны других культур.
Порвать с группой для террориста почти невозможно - это равносильно психологическому самоубийству. Для террориста покинуть организацию значит потерять самоидентичность. Террорист имеет столь низкую самооценку, что для него отказаться от заново обретенной самоидентификации практически невозможно. Эти вовсе не авторитарные люди становятся, таким образом, членами жестко авторитарных групп. Включаясь в такую группу, они обретают защиту от страха перед авторитаризмом. При этом любое нападение на группу воспринимается ими как нападение на себя лично. Соответственно любая акция извне значительно увеличивает групповую сплоченность. По мере того как террорист проникается идеологией своей организации, он усваивает абсолютистскую риторику. Мир для него распадается на своих и врагов, черное и белое, правильное и неправильное - никаких оттенков, неясности, сомнений. Подобная логика побуждает террористов к нанесению ударов по обществу и врагу, кто бы им ни считался. Врага определяют лидеры организации. Они намечают мишени, а также методы нападения, которые следует использовать.
Лица, склонные к терроризму, принадлежат к такому типу личности, для которого характерен примат эмоций над разумом, непосредственных активных реакций на действительность над ее осмыслением; предвзятость оценок, низкий порог терпимости и отсутствие должного самоконтроля. Такие люди достаточно легко сживаются с идеями насилия.
Мотивы террористов
С. А. Эфиров называет следующие мотивы терроризма:
Самоутверждение,
Самоидентификация,
Молодежная романтика и героизм, придание своей деятельности особой значимости,
Преодоление отчуждения, конформизма (приспособленчество, бездумное следование общим мнениям), обезлички, стандартизации, маргинальности и т. п.
Также возможны корыстные мотивы.
Самым основным мотивом Эфиров считает «идейный абсолютизм», «железные» убеждения в обладании единственной, высшей, окончательной истиной, уникальным «рецептом спасения» своего народа, группы или даже человечества.
Прежде всего, нужно отметить несомненность такого мотива как самоутверждение, который часто переплетается с желанием доминировать, подавлять и управлять окружающими. Такая потребность бывает связана с высокой тревожностью, которая проявляется в случае господства в социальной среде, причем господство может достигаться с помощью грубой силы, уничтожения неугодных. Данный мотив обнаруживается в любом виде террористического поведения, тем более что подавление других часто обеспечивает и личную безопасность.
Одним из мотивов также является мотив, который влечет за собой человеческие жертвы, выступает влечение отдельных людей к смерти, к уничтожению, столь же сильное, как и влечение к жизни. Психолого-психиатрические особенности личности террориста во многом определяются тем, что он соприкасается со смертью, которая, с одной стороны, влияет на его психику, поступки и на события, в которые он включен, а с другой - его личностная специфика такова, что он стремится к смерти. Это террорист некрофил. Влечение к смерти (некрофилия) объединяет значительную группу людей, которые решают свои главные проблемы, сея смерть, прибегая к ней или максимально приближаясь.
Некрофилы живут прошлым и никогда не живут будущим, считал исследователь Эрих Фромм. Это находит свое достоверное подтверждение особенно у националистических террористов, которые любят восхвалять героическое прошлое своего народа и без остатка преданы традициям. Для некрофила характерна также установка на силу, как на нечто, что разрушает жизнь. Применение силы не является навязанным ему обстоятельством преходящим действием - оно является его образом жизни.
Террорист делает смерть своим фетишем, тем более что сам террористический акт должен внушать страх, даже ужас. Здесь угроза смерти и разрушения, вполне возможных в будущем, надстраивается над уже свершившимся, образует пирамиду, которая вдвойне должна устрашать. Смерть отпечатывает на террористе - некрофиле свой образ, начинает говорить с ним на своем языке, и он его понимает. Контакт со смертью представляет собой преодоление ограниченности своего бытия и выход за его пределы в бесконечное, ибо смерть и есть бесконечное. Пребывание в нем, хотя бы и путем уничтожения другого, определяет то особое, никак не сравнимое с обычным состоянием психики, нахождение ее в специфическом измерении, что наблюдается практически у всех убийц, которые убивали неоднократно. В бесконечном, то есть в смерти другого, индивид живет своей еще непрожитой жизнью и настолько эта часть собственного существования представляется наполненной негативными переживаниями, настолько вероятны деструктивные устремления. Раз приблизившись к ней, такой человек начинает приобретать опыт, который либо осознается и становится основой его внутреннего развития, либо не осознается и на уровне личностного смысла определяет его поведение, в том числе и через потребность вновь и вновь испытывать соприкосновения с тем, что находится за гранью жизни. Очень важно подчеркнуть, что данный мотив, как и большинство других, существует на бессознательном уровне и крайне редко осознается действующим субъектом.
Еще один мотив, который способен породить террористический акт - желание покончить жизнь самоубийством, ведь террористы-самоубийцы отнюдь не редкость. Данный мотив реализуется в следующих вариантах:
1) субъект стремится к гибели при учинении данного преступления и все делает для этого, причем он может хотеть такой «славной» смерти, чтобы напоследок привлечь к себе внимание, которого он до этого был лишен;
2) человек вполне понимает, что обязательно погибнет, но сознательно жертвует собой ради «высокой» идеи. Индивид идет на весьма рискованное для него террористическое преступление, но его сознание не охватывает реально существующий мотив самоубийства.
Среди террористов немало и тех, кто движим игровыми мотивами. Для них участие в террористических актах - это игра: с обстоятельствами, врагом, судьбой, и даже со смертью. Особенно это характерно для молодых людей, в том числе подростков. Данную ситуацию они воспринимают как захватывающую игру, ставкой в которой может быть их жизнь. Но многих это не пугает: для них собственная жизнь, лишь плата за участие в столь «захватывающей» игре.
Ознакомившись с рассмотренными ведущими специалистами террологами особенностями психологии террористов и причинами, подталкивающими к террористической деятельности, можно выделить ряд ведущих мотивов, которыми руководствуются современные террористы:
1. обида за себя лично или за социальную группу, к которой принадлежит человек;
2. желание самоутвердиться, подавить других, в том числе путем совершения теракта;
3. стопроцентная убежденность в своей правоте; фанатичное осознание того, что «моя» идея, идеология, цель - единственно верные, и «я» должен добиваться ее любыми способами;
4. игра в «сильного и крутого» человека; «мне все по силам», «что хочу, то и делаю», «мне ничего за это не будет»;
5. стремление к смерти («себя не жалко»), желание и готовность принести в жертву других.
С перечисленными мотивами в той или иной степени согласны почти все исследователи. Однако, по моему мнению, не все из этих мотивов могут подтолкнуть обычного человека на путь террора. Я согласна, что к числу «безусловных» причин можно отнести первый и третий мотивы. Люди, ставшие террористами по этим причинам - наиболее опасны и фанатичны. В свою очередь, второй, четвертый и пятый мотивы, по-моему, не являются обязательным условием, подталкивающим к вступлению в террористические структуры. Эти мотивы могут сыграть свою отрицательную роль только в том случае, если окружающими и обществом создаются соответствующие негативные условия. Человек может стать террористом, а может - и нет.